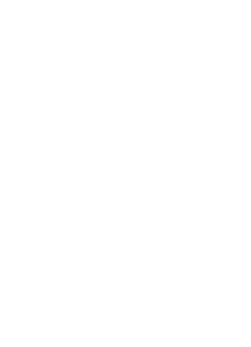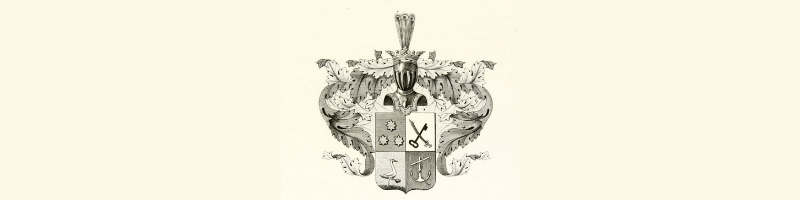Шишмаревы
Сестра милосердия Ольга Иннокентьевна Шишмарева (1896-28.03.1915)
Ольга Шишмарёва родилась в 1896 году в семье Иннокентия Парфентьевича Шишмарёва, городского головы Троицкосавска (Кяхта, Бурятия), брата Якова Парфентьевича Шишмарёва. После окончания гимназии в Чите переехала в Москву и поступила на Высшие женские курсы В. А. Полторацкой. После начала Первой мировой войны окончила курсы сестёр милосердия. 26 ноября (9 декабря) 1914 года она отправилась на фронт в составе I Сибирского передового врачебно-питательного отряда Всероссийского союза городов.
В феврале 1915 года Ольга Шишмарёва служила вместе с санитаром Сергеем Шлихтером в летучке «Б» I Сибирского отряда, дислоцированного на территории Польши близ города Опочно. Будучи во время перемирия на передовых позициях, была тяжело ранена осколком немецкого снаряда. Ольге было всего 19 лет.
О гибели Ольги Шишмарёвой написали многие газеты Российской империи. Она была временно похоронена в Варшаве 30 марта (12 апреля) 1915 года. Позднее её тело доставили в Москву. Сестра милосердия погребена в Москве, на Братском кладбище 19 апреля (2 мая) 1915 года, в присутствии великой княгини Елизаветы Фёдоровны, представителей городских властей, генералитета, главноуполномоченного Союза городов и земского союза. Тем самым был открыт участок сестёр милосердия.
6 мая 2014 года состоялось открытие памятной надгробной плиты сестрам милосердия Ольге Шишмаревой и Вере Семеновой, погибшим во время Первой мировой войны, на мемориальном военном Братском кладбище на Соколе. Братское кладбище- самое крупное в Европе, было основано в 1915 году, когда в московских госпиталях умирало много раненых фронтовиков. Всего на его территории погребено 17,5 тысячи российских воинов. Однако в Советском Союзе в 1930-е годы кладбище было преобразовано в парк. В 1997 году на его территории вновь установили памятники.
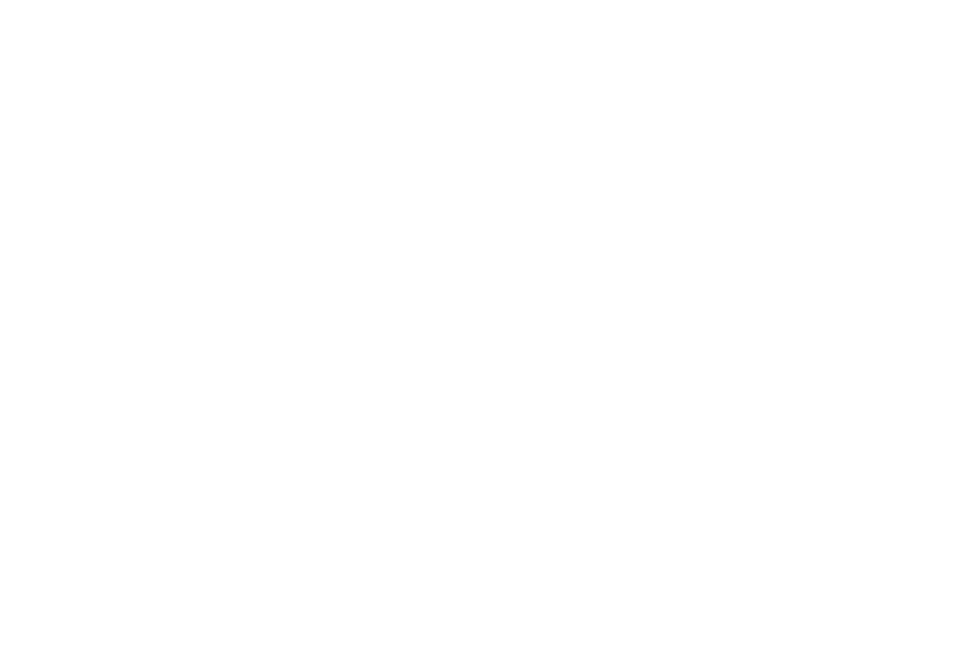
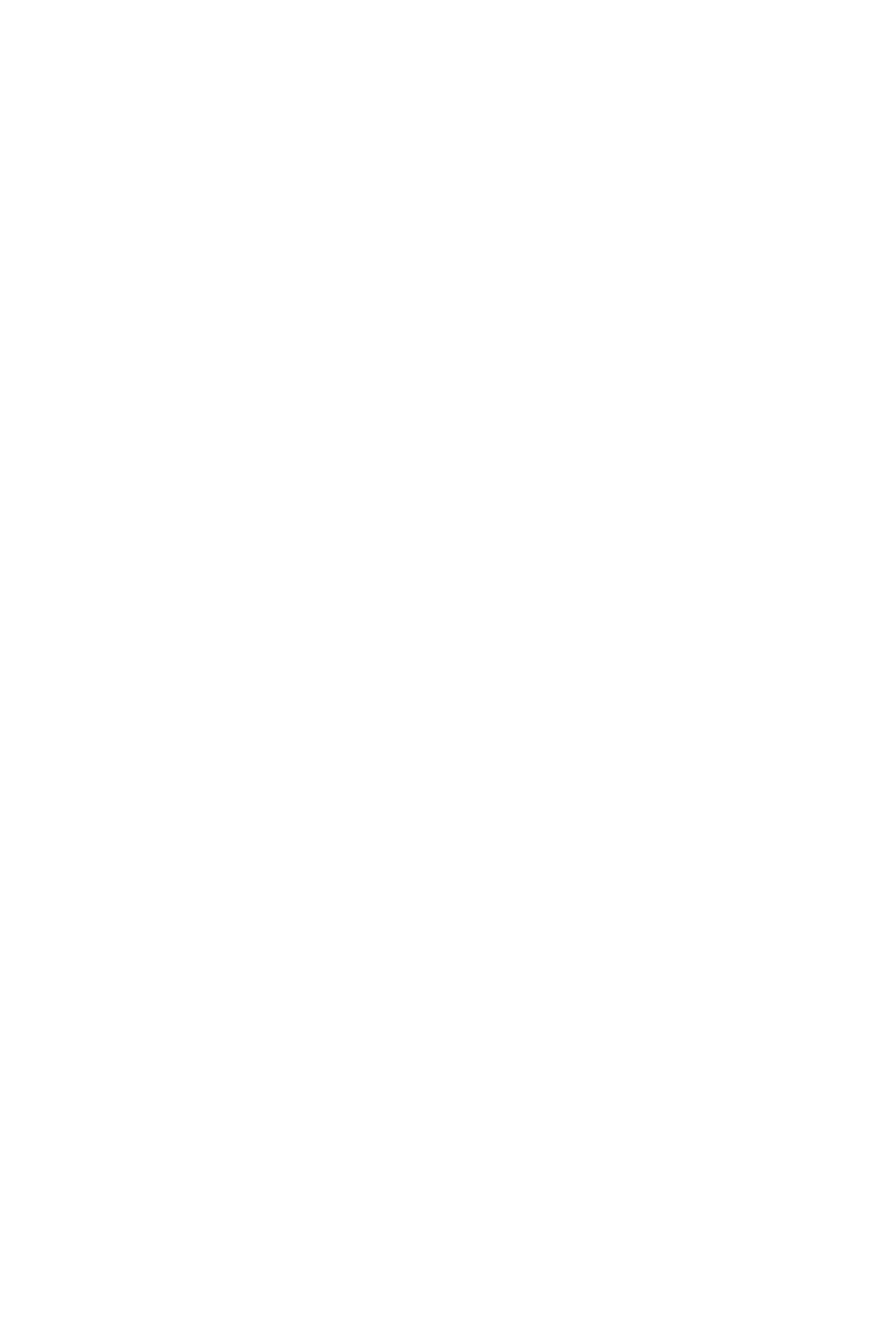
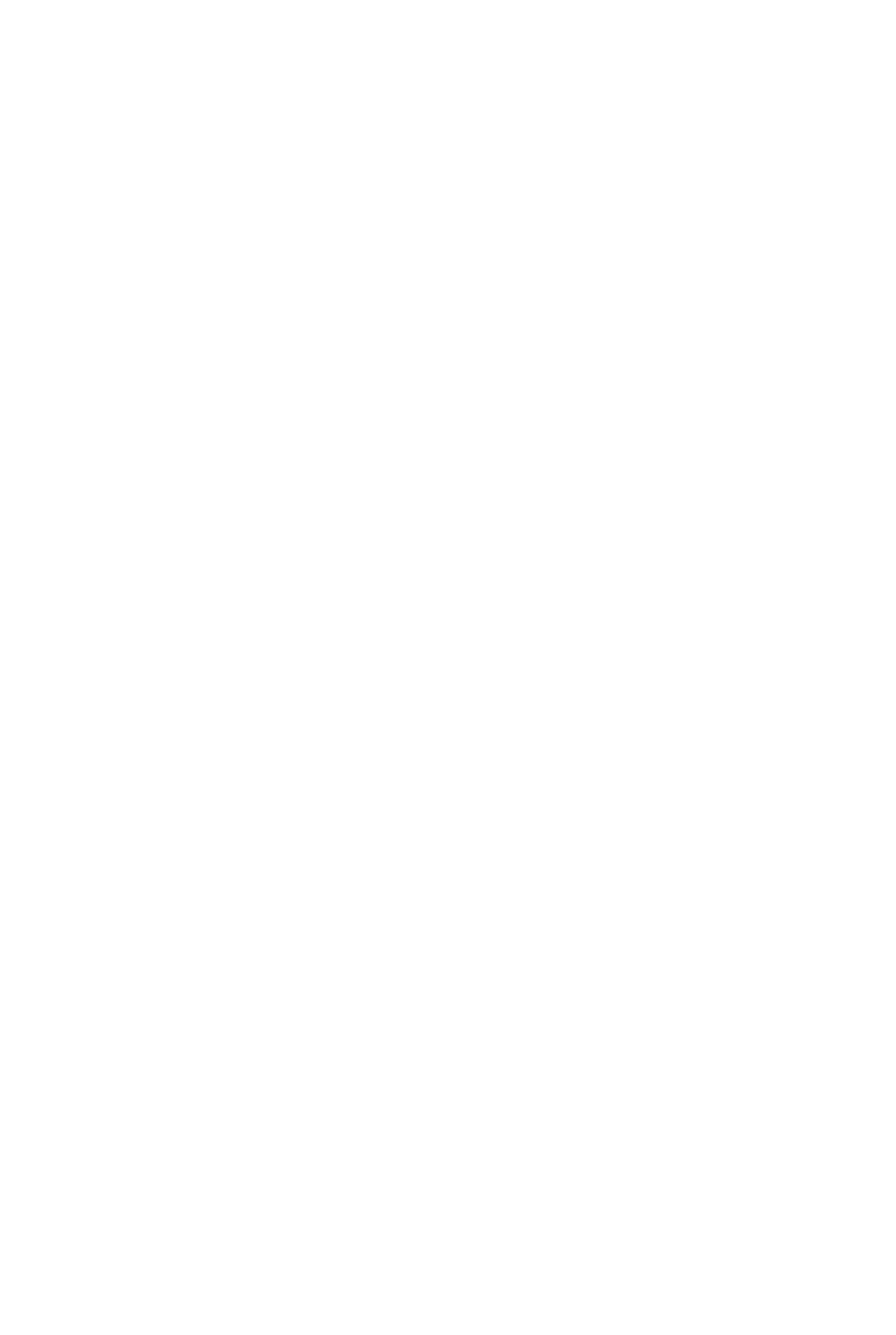
Офицер с артиллерийского наблюдательного пункта, находящегося в полуверсте от нас, приходит к нам и рассказывает о том, что произошло только что на его глазах: из австрийских окопов вышли трое с белым флагом и направились в нашу сторону. Спустя некоторое время навстречу им вышли трое из наших окопов, тоже с белым флагом. Встретились на середине расстояния между их и нашими окопами, откозыряли друг другу; австрийцы вручили какой-то пакет, и разошлись. На наблюдательном пункте есть подзорная труба, так что видно, как на ладони.
Спустя некоторое время, немного дальше про фронту повторяется та же история, с той лишь разницей, что австрийцы идут к нам. Они, оказывается, изъявили желание вести какие-то переговоры, и их с завязанными глазами повели в наш штаб. Было заключено перемирие, и солдаты свободно разгуливали наверху окопов, на виду у неприятеля. С того момента, как они пошли с флагом, ни с их, ни с нашей стороны не было произведено ни одного выстрела и не пущено ни одного снаряда.
Вот в это то время трое из нашей летучки- сестра Шишмарева, мой приятель, студент Вознесенский, и я- собрались идти в окопы. Мы понесли солдатам и офицерам газеты и журналы, а также белые халаты для разведчиков, которые просили нас принести раньше. Кроме того, пошли справляться нет ли раненых и, если они есть, переправить их к нам, в нашу летучку, в 1,5 верстах оттуда. Накануне в окопах этой самой роты был с некоторыми товарищами писатель Т., гостивший в нашей летучке, который раскопал там интересные типы прапорщиков из солдат.
Мы, конечно, не пошли в окопы днем, без особенной нужды, да еще с сестрой, так как днем легко могут заметить, если бы не перемирие и удачное расположение окопов. Удачное же расположение состояло в том, что окопы расположены как раз на опушке леса, сразу попадаешь в окопы, не будучи замеченным неприятелем.
И действительно, все пошло как по писаному. Мы зашли в землянку ротного командира, где, помимо него, застали еще двух прапорщиков из солдат, о которых я говорил выше. Нас благодарили за газеты, угощали чаем, показывали панцирь Чемерзина, говорили, что завтра с утра под обстрел неприятеля хотят выставить чучело, надев его для пробы на этот панцирь. Затем пошли по окопам.
Шли, вернее, не по окопам, так как ям копать здесь нельзя- болотистая почва и на 1/4 аршина в глубину вода. А окопы заменяет бруствер,- стена, сложенная из земли и дерна и укрепленная кольями. В ней и устроены бойницы. такой тип окопов, конечно, очень неудобен и потому встречается очень редко, только в случаях крайней необходимости, когда иначе устроиться нельзя. За стеной стоят невысокие землянки, опять таки, не вырытые в земле, а построенные на ней с помощью жердей и дерна.
И вот мы стали около одной из таких землянок. Дело было в 4 часа дня 21 февраля. Потом оказалось, что накануне ровно в это время австрийцы начали обстреливать именно это место и выпустили по нему около 70 снарядов. Но тогда никто не предупредил нас об этом, хотя с нами было 3 офицера, да никто не мог ожидать от австрийцев такого коварства, что они станут стрелять во время перемирия, когда их парламентеры ведут переговоры в нашем штабе.
И вдруг далекий выстрел и характерное жужжание приближающегося к нам снаряда. Человеку непосвящённому, никогда не испытывавшему ощущения ожидания снаряда, летящего на тебя, жужжание это, как ни старайся, никак не передашь и ни с чем его не сравнишь. Но зато, если вы с ним хорошо познакомились, то уже всякий звук напоминает вам это жужжание. И спустя день по приезде в Варшаву меня заставлял еще настораживаться звук дребезжащей пролетки.
Но возвращаюсь к теме: мы все услышали жужжание летящего на нас снаряда. Ощущение не новое, но на сей раз оно было до того неожиданным, что никто не догадался и не успел крикнуть другим, чтобы падали, или лечь сам. Не было чувства страха, было чувство удивления, недоумения, но главное, беспомощности. Мы не ожидали его стоя, как прикованные к месту.
Оглушительный разрыв, я на мгновение как будто ничего не вижу перед собой, но не надолго, и в это время чувствую, как по моему левому виску настойчиво и безумно скоро стучат острым молоточком. Это продолжается мгновение. Затем все снова приходит в норму. Мой взгляд случайно падает на правую руку на ней несколько дыр, хотя боли я никакой не чувствую. Оборачиваюсь дальше, вижу,- лежит сестра.
"Она испугалась, а потому упала!" проносится мгновенно в сознании, до того невозможно даже представить себе, чтобы произошло что-нибудь серьезное. А происшедшее со мной лично только подтверждает еще комичность и смешную сторону инцидента.
Подбегаю к ней,- у нее отнялись ноги. Осматриваю,- ни дыры на платье, ни крови не видно.
"Нервное потрясение", думаю я.
И мы с солдатом тащим ее в землянку. В это время второе жужжание, второй разрыв, но уже не в воздухе, а на земле,- позади нас, т.е. уже не шрапнель, а граната,- снаряд, поставленный на удар. Вспоминая потом об этом, я догадался, почему австрийцы пускают снаряды именно в такой последовательности: шрапнель застает врасплох и осыпает сверху свинцовым дождем ничего не ожидающих солдат, а затем, когда они знают, что солдаты уже спрятались и поукрывались, и шрапнелью их не пронять,- они начинают щупать их в самих окопах гранатой. И вот летит второй снаряд, третий, а у меня такое настроение, как будто хочется крикнуть им: "Ага!" Что? Взяли?".
Но сестра начинает стонать, жалуется на общую боль в спине и груди, на то, что отнялись ноги... Снова детально осматриваю ее и ничего не нахожу. У меня отлегает от сердца, и я вспоминаю: "А что же стало с другими?"...
... Прошу сходить в резервные окопы за носилками, а сам иду в землянку к сестре. Там дела еще хуже. И теперь она уже жалуется на определенную боль в левом плече. Осматриваю тщательно эту область, и на это раз нахожу дырку в фуфайке с небольшим ободком крови вокруг.
Начинаю понимать все...
Перевязка сделана, и мы с солдатом из землянки, славным, добродушным парнем, готовым, кажется, душу положить за сестрицу, идем за водой к "колодцу", так как она просит пить. "Колодец" находится совсем близко, и представляет собой ни что иное как ямку в 1/2 аршина глубины, полную чистейшей холодной воды.
Набираем воды в кружку, возвращаемся и видим: по тропинкам, вдоль стены бежит на четвереньках солдатик, бежит со скоростью, которой мог бы позавидовать любой пассажирский поезд. Поднимется, и побежит по настоящему, но согнувшись в три погибели,- где стена повыше,- а в низких местах падает и снова "шпарит" дальше по способу четвероногого хождения". Картина комичная, но теперь, конечно, не до смеху.
Добрался, поднялся, и рапортует:
-Ротный велел нести сестрицу к нему в землянку!
Мы и сами знаем, что надо нести, но вопрос в том, как и где нести. Вдоль окопов нельзя, так как есть опасные, открытые места, где переползет солдат, но не переберутся незамеченными двое человек с тяжелыми носилками. Остается один путь- от ококпов прямо в лес, по снегу, через кочки и канавы, а также и через вырытые упавшими только что снарядами ямы. Опасно, но еще опаснее оставлять раненных здесь, где каждую минуту снаряд может угодить в землянку и разнести ее вдребезги со всем содержимым. А главное,- опасен только первый участок пути. Там же, дальше, в лесу находится какой-то заброшенный ход сообщения. Весь спрос теперь в том, насколько далеко находится этот ход сообщения и насколько он сам представляет собой надежное прикрытие. К счастью, огонь в это время стихает и представляется возможным провести "разведку"...
... Вскоре приносят одну пару носилок, мы укладываем сестру, и носилки с двумя санитарами, в сопровождении еще двух солдат, трогаются.
1,5 версты тянутся долго, бесконечно долго. Сестре холодно, как ни стараемся мы укутать ее тем немногим, что имеется в нашем распоряжении: шинель, да ее брезентовый плащ, да полотно от палатки, которое дал мне солдатик- единственное, что он мог дать.
Переполох, который производит в летучке появление носилок.
Перевязка. Верховой летит в лазарет с сообщением о случившемся. Ночью на автомобиле приезжают Н.В. Некрасов и старший врач. Накладывают гипсовый корсет и немедленно эвакуируют сестру в лазарет, а оттуда утром, в автомобиле, за 110 верст в Варшаву. Меня вместе с другой сестрой посылают сопровождать ее и устролить в лазарет. На другой день сестра уезжает, и я остаюсь один. Выясняется безнадежность ее положения... Трудно поддерживать надежду в обреченном на смерть человеке, развлекать его, строить планы будущей, совместной работы. И в особенности трудно, когда мучают угрызения совести за то, что уступил просьбам и доводам ее и других и взял ее с собой в окопы; за то, что стало так, а не иначе, благодаря чему пуля избрала именно такое несчастное напврление (у нее перебит позвоночник, и совершенно отнялась вся нижняя часть тела) в то время, как могла попасть и иначе. Знаешь, что все это находилось вне твоей воли и власти, а все-таки... За то, наконец, мучит совесть, что ты так счастливо отделался, а она попала так несчастливо...
Вчера приехала ее двоюродная сестра. Теперь, вдвоем, легче бюудет скрашивать последние минуты жизни... А то раньше были минуты, когда чувствовал, что слабость духа и опускаются руки. История эта может продолжиться очень долго. Теперь, глядя на нее, ни за что не хочется верить, что она умрет: такой у нее сравнительно хороший вид и розовые щеки- почти такие же, как были и раньше. Но надежды на жизнь, говорят врачи, очень мало, а надеяться на восстановление движения и всего прочего и совсем невозможно. А в последнем случае лучше, пожалуй, смерть". (3)